|
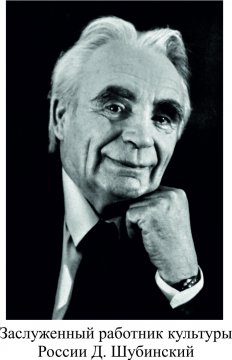  С. 145-147 С. 145-147
Маленький, седой
и очень быстрый в движениях — таким представляется Николай Иванович Уралов по
рассказам современников. Собственно, и самих тех современников, увы, ныне с
нами уже нет…
Последним, кто
частенько называл имя Уралова в театральных кулуарах, был Дмитрий Вениаминович
Шубинский:
— Николай
Иванович меня Димочкой называл… Приходил он в театр раньше всех. Из дому
выходил, как видно, еще затемно. Шел на берег Амура вот по тому самому
переулку, что теперь называется Ураловским. Непременно с рыбаками покалякает, по парку пройдется — раньше парк наш горсадом
называли — и в театр.
Чай ставить — на
примусе. Любил, чтоб к чаю карамельки — «подушечки» были непременно. Я с
удовольствием покупал эти самые «подушечки» по его просьбе…
Дмитрий
Вениаминович не без гордости вспоминал о совместных прогулках с Мастером по
горсаду (так называли в Благовещенске в то время городской парк рядом с
театром) в перерывах между репетициями, о беседах на «вольные» темы, которые
почему-то всегда сходились на театре.
— Ничего не
поделаешь, ведь театр так многолик, разнообразен, как многолика и разнообразна
вся наша жизнь, — резюмировал Дмитрий Вениаминович Шубинский, который сам всю
свою сознательную жизнь до последних дней верно и преданно служил родной амурдраме.
Николай Иванович
Уралов, придя главным режиссером в Амурский драматический в 1948, до 1962 года
был художественным руководителем театра, сам ставил спектакли и даже играл в
отдельных спектаклях. Долго и мучительно болел, умер в 1964. Благовещенцы очень
уважали и любили Уралова, не пожелали расставаться с его именем — практически
сразу же переулок, по которому совершал ранние свои прогулки Николай Иванович,
был назван именем Уралова.
В Благовещенске
некоторые зрители еще помнят один из мощнейших спектаклей Уралова: это была
«Пучина» по А. Островскому.
Опять же со слов
Шубинского можно представить необычайно творческую атмосферу на репетициях Н.И.
Уралова, который считал главным и наиболее плодотворным процессом в театре
именно постановку спектакля. С этим трудно не согласиться. Работу над ролью
каждого актера обставлял столь трепетно, что за удачно созданный образ мог
простить многое. И прощал. Но ни в коем случае не разгильдяйство. Более всего
не принимал опозданий на репетиции, пропусков без причины. Наказывал жестко…
— Дисциплина
была тогда очень строгая. Помню случай… — рассказывал как-то после утренней
планерки все тот же Дмитрий Вениаминович Шубинский, — Была у нас одна актриса,
молодая совсем. Ведет Николай Иванович репетицию, а она — опоздала. Зашла и
села молча, очень расстроенная. И вдруг — со стула стала сползать. Обморок!
Николай Иванович репетицию прервал, вызвали неотложку. Оказалось — муж у нее,
военный был, погиб. Хотя война уже тогда кончилась… На репетицию артистка не
могла не прийти, хотя и причина была самая что ни на есть уважительная… Николая
Ивановича не то, чтобы просто боялись — нет. Его любили, уважали и огорчать не
хотели, вот что… И за наказания никто не роптал. То ли время было другое, то ли
люди иначе к своему делу относились. А может — все вместе взятое.
Сегодня, в
первом десятилетии 21-го века, когда и страна у нас совсем другая, и общество
необычайно изменилось, театр тоже стал другим. Ибо так всегда было и есть:
театр — зеркало жизни. Было бы нелепо, если б зеркало отражало с искажениями.
Впрочем, не без этого…
Но Амурский
театр драмы накануне своего 125-летия непременно вспоминает период своей
истории, называемый «ураловским». Роль яркой личности, каковой, бесспорно, был
Николай Иванович Уралов, в истории Амурской драмы нельзя переоценить.
Жаль только, что
нет реальной возможности увидеть хотя бы маленький фрагмент из его постановки,
ведь театральное действо тем и прекрасно, что все происходит «здесь и сейчас».
Живое действие. Живые актеры. Живые зрители.
Можно только по-хорошему
позавидовать тем людям, которые находились в зрительном зале, когда в финале
под аплодисменты на сцену выходил Мастер — Николай Иванович Уралов…
|
|